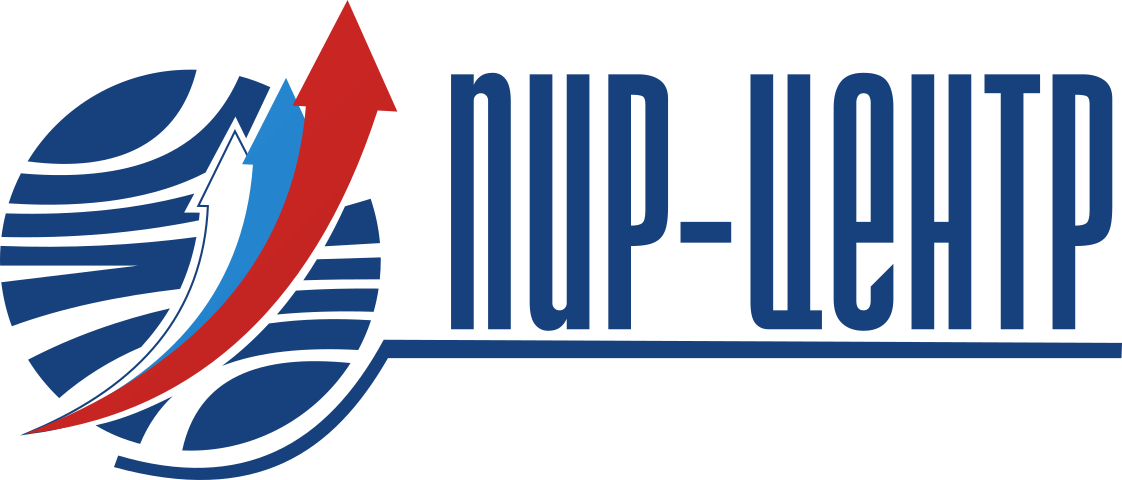22 ноября 2024 года Беларусь и Россия подписали в Бресте «Совместное видение Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке» (далее — «Совместное видение»), в котором четко выражена поддержка многополярного международного порядка, основанного на цивилизационном многообразии, а Евразийский континент обозначен как центр этого процесса. Документ не только подчеркивает необходимость противодействия внешнему вмешательству, усиления регионального сотрудничества в области безопасности и экономической интеграции, но и предлагает использовать существующие евразийские многосторонние механизмы, такие как Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества, для продвижения «паневразийского партнерства», стремясь перестроить архитектуру регионального управления. Подписание этого документа стало стратегическим ответом двух стран на геополитическое давление со стороны Запада и знаковым шагом в укреплении «автономии» Евразии и борьбе за право формулировать международные правила.
На сегодняшний день Китай, как важный участник Евразийского континента, активно углубляет взаимодействие с евразийскими странами через инициативу «Один пояс, один путь» и сотрудничество в сфере региональной безопасности. Реакция Китая на «Совместное видение» Беларуси и России может не только открыть новые возможности для многостороннего сотрудничества в Евразийском регионе, но и поставить новые вызовы в контексте стратегического взаимодействия России и Китая, а также роли Китая в евразийской системе безопасности. В этом контексте возникает ключевой вопрос: как Китай воспринимает идеи и цели, заложенные в этом документе? Сможет ли концепция «Сообщество единой судьбы человечества», продвигаемая Китаем, гармонично сочетаться с «Евразийской многополярностью», предлагаемой Беларусью и Россией? И что еще более важно, каким образом этот документ повлияет на стратегическое пространство и политическое влияние Китая в его концепции евразийской безопасности? Ответы на эти вопросы касаются не только того, как Китай будет балансировать между сотрудничеством и автономией в изменяющемся евразийском порядке, но и того, какое будущее ожидает отношения России и Беларуси с Китаем, а также всю динамику ситуации в Евразии.
Основное содержание «Совместного видения Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке» сосредоточено на трех ключевых областях: безопасности, экономическом сотрудничестве и политической многополярности. В области безопасности документ предлагает создание «новой континентальной архитектуры безопасности», подчеркивая неделимость безопасности, необходимость совместных усилий и сопротивление внешнему вмешательству. Он настаивает на усилении сотрудничества через региональные механизмы, такие как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), для защиты евразийских интересов от вмешательства «неместных сил». В экономике документ призывает углубить интеграцию в Евразии, развивать «паневразийское партнерство», уделяя особое внимание связям через такие платформы, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), в которой активно участвует Китай, и АСЕАН, чтобы обеспечить «стыковку» межрегиональных экономических процессов. В политической сфере многополярности документ решительно осуждает однополярное доминирование, выступает за возрождение международного порядка с центральной ролью Организации Объединенных Наций и поддерживает право стран на самостоятельный выбор моделей развития, отвергая навязывание идеологий и двойные стандарты.
Стратегические цели данного документа можно свести к трем основным пунктам. Во-первых, это перестройка геополитического баланса сил в Евразии. Подчеркивая принцип «евразийской автономии», Россия и Беларусь стремятся трансформировать Евразийский континент из традиционной арены великих держав в центральный столп многополярного мира, смягчив вмешательство внешних держав. Во-вторых, укрепление регионального лидерства России и Беларуси. Документ позиционирует эти две страны как «двигатель» евразийской интеграции, объединяя существующие региональные структуры, такие как Евразийский экономический союз и СНГ, с целью усиления их способности определять повестку в области безопасности и экономики. И, наконец, противодействие международной изоляции. На фоне продолжающегося конфликта в Украине и усиливающихся западных санкций документ использует нарративы «многополярности» и «невмешательства» как инструмент для привлечения поддержки стран Глобального Юга, а также для укрепления сотрудничества с ключевыми партнерами, такими как Китай, расширяя координацию антизападного лагеря.
Для евразийской структуры безопасности влияние документа проявляется в двух аспектах. С одной стороны, если предложенный принцип «неделимости безопасности» будет реализован, это может привести к созданию более исключительных сетей безопасности среди стран Евразии, что, в свою очередь, ограничит пространство для расширения НАТО на Восток. С другой стороны, чрезмерная зависимость от многосторонних региональных механизмов сотрудничества, где Россия и Беларусь играют ключевую роль, может усилить структурный дисбаланс силового взаимодействия внутри Евразийского континента. Особенно это касается обеспокоенности малых и средних стран по поводу их «представительства», что в конечном счете может подорвать региональную сплоченность. Этот противоречивый момент представляет собой ключевую задачу, которую необходимо решить в процессе реализации стратегических намерений документа.
В этом контексте предложенная Россией и Беларусью архитектура безопасности не только влияет на региональную структуру Евразии, но и ставит перед Китаем новые вопросы, касающиеся его роли в этой структуре. То, как Китай отреагирует на данную инициативу в области безопасности, во многом определит его стратегическое положение и направление действий в рамках евразийской системы безопасности.
Безопасность Китая в Евразийском регионе укоренена в многогранных аспектах. Прежде всего, это безопасность энергетики: нефтегазовые ресурсы Центральной Азии и России, поступающие по таким стратегическим артериям, как трубопровод Казахстан–Китай и Восточный газопровод Россия–Китай, становятся настоящей «кровью» китайской экономики . Это не просто поставки — это стратегический каркас, на котором держится экономическая стабильность.
С военной точки зрения стабильность Синьцзяна тесно связана с ситуацией в Центральной Азии. В рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) регулярные совместные антитеррористические учения и обмен разведывательной информацией становятся основными барьерами против экстремистской угрозы. Эти усилия создают непреодолимую преграду для внешнего влияния, которое может дестабилизировать регион.
Экономически развитые страны Евразии — это ключевые узлы инициативы «Один пояс, один путь». Регулярные рейсы Китай–Европа и развитие железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан не только сокращают логистические расстояния между Азией и Европой, но и превращают экономическую интеграцию в прочный фундамент для укрепления безопасности. Такой подход, где развитие тесно переплетается со стабильностью, показывает, что Китай рассматривает экономическое взаимосвязанное развитие как продолжение стратегии безопасности, а не просто как инструмент геополитической конкуренции.
Реализация стратегии «Экономический пояс Шелкового пути» еще сильнее укрепила симбиотические отношения Китая с евразийскими странами. Строительство Китайско-Пакистанского экономического коридора и интеграция с казахстанским проектом «Светлый путь» связывают инфраструктурные инвестиции с региональной безопасностью. Например, строительство дорог в Кыргызстане не только способствует торговле, но и ограничивает пространство для трансграничной преступности, сужая возможности для ее развития.
В то же время китайское продвижение цифровой экономики в Центральной Азии, такое как создание облачных вычислительных центров совместно с Узбекистаном, использует технологии для трансформации традиционных отраслей и косвенно снижает риски социальных волнений. Эта «двухуровневая» модель «экономика–безопасность» пересекается с целями, изложенными в «Евразийской хартии» относительно «паневразийского партнерства», но Китай акцентирует внимание на рыночных правилах и принципах неэксклюзивного сотрудничества, стремясь избежать попадания в рамки механизмов, контролируемых Россией и Беларусью.
В этом контексте сложность и устойчивость стратегического сотрудничества Китая и России становятся особенно заметными. Несмотря на то, что обе стороны тесно взаимодействуют в таких сферах, как противодействие однополярному гегемонизму и продвижение расчетов в национальных валютах — например, доля китайского юаня в российской энергетической торговле превысила 40%, — пути их безопасности демонстрируют тонкие различия. В процессе формирования архитектуры безопасности Евразии Россия, являясь ключевым государством-членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), последовательно укрепляет координационные функции данного многостороннего оборонного механизма в региональных вопросах безопасности. В то же время Китай через Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) продвигает синергетическую модель взаимодействия безопасности и развития, например, реализуя в Таджикистане комплексный проект «сельскохозяйственная безопасность», который интегрирует укрепление антитеррористического потенциала с программами сокращения бедности. Эти подходы отражают различные практики формирования многополярного мирового порядка: акцент России на поддержании стратегической стабильности через многосторонние структуры безопасности контрастирует с китайской моделью институциональных инноваций, объединяющих управление нетрадиционными угрозами и устойчивое развитие.
Связь между «Совместным видением» и китайской стратегией безопасности проявляется в переплетении идеологического резонанса и практических напряжений. Критика «однополярного гегемонизма» в документе совпадает с китайской инициативой по продвижению «демократизации международных отношений», а его призыв к «противодействию внешнему вмешательству» находит отклик в принципах Китая по «уважению суверенитета и путей развития». Эта идеологическая гармония особенно очевидна в сфере энергетического сотрудничества: проекты, такие как Восточный газопровод и «Сила Сибири 2», продолжают развиваться, обеспечивая Китаю диверсификацию импорта энергии и предоставляя России экономическую поддержку для преодоления западных санкций.
Экономические положения документа, касающиеся «согласования региональных механизмов сотрудничества», объективно открывают возможности для координации правил «Один пояс, один путь» с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Например, регулярные рейсы Китай–Европа через железнодорожные сети России и Беларуси значительно ускоряют транзит, а пилотные проекты по взаимному признанию таможенных данных уже запущены. Это сокращает логистические издержки и постепенно усиливает «институциональную вязкость» региональной экономической интеграции. Такое углубление экономической взаимосвязанности служит не только двусторонним интересам, но и вносит новый импульс в развитие стран Евразийского континента.
Тем не менее потенциальные конфликты нельзя игнорировать. Несмотря на упоминание таких платформ, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), основой документа остаются российские механизмы, такие как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что может ограничить экономическое влияние Китая, расширяющегося через БРИКС и ШОС. В рамках ШОС Китай активно продвигает идеи создания банка развития, а также механизмы сотрудничества в области цифровых валют, стремясь выстроить финансовые каналы, независимые от западных структур. В то же время ЕАЭС нацелен на унификацию таможенных и технологических стандартов, что постепенно обостряет конкуренцию за право формулирования правил игры на международной арене.
Идеологические разногласия в области безопасности становятся все более очевидными. Формулировка «снижение военного присутствия извне», указанная в документе, если воспринимать её как попытку России сдержать расширение НАТО, может вступить в противоречие с необходимостью Китая поддерживать практичные каналы сотрудничества с Центральной Европой. Китай должен одновременно поддерживать повестку многополярности и сохранять прагматичные связи с Европой. Например, в Центральной Азии антитеррористические усилия Китая зачастую опираются на экономическое стимулирование (например, развитие сельскохозяйственных кооперативов на афганской границе), а не на военные вмешательства. Этот путь «мягкой безопасности», безусловно, способствует стабилизации ситуации, но он не способен удовлетворить ожидания России, которая стремится к созданию «жесткой безопасности» через военные альянсы.
Кроме того, в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией экономическое сотрудничество двух стран демонстрирует комплементарный характер. Китайская инициатива «Один пояс, один путь», основанная на принципах совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования, направлена на формирование открытой мировой экономической системы с акцентом на развитие трансграничной инфраструктурной взаимосвязанности и многосторонних торговых сетей. Российский Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как механизм региональной экономической интеграции ориентирован на углубление промышленной кооперации и рыночной интеграции между государствами-членами. Казахстан, являясь ключевым государством, участвующим в обеих инициативах, демонстрирует стратегическую сбалансированность в сложных международных условиях. Посредством гибкой и прагматичной многосторонней политики страна активно развивает синергию в транспортно-логистической сфере и промышленном сотрудничестве, сохраняя при этом стабильность региональной экономики.
Столкнувшись с этой сложной картиной, позиция Китая, вероятно, проявится в виде «выборочного сотрудничества». С одной стороны, Китай, скорее всего, займет позицию «выборочной кооперации» в отношении «Совместного видения»: поддерживая его многополярный нарратив, углубляя практическое сотрудничество с Россией и Беларусью в таких сферах, как энергетика и инфраструктура, например, через сопряжение проектов «Цифрового Шелкового пути» с российским проектом «Цифровизация Северного морского пути». С другой стороны, как и в случае с инициативой Китая через ШОС, где утверждается, что «неделимость безопасности должна охватывать всех заинтересованных сторон», акцент будет сделан на открытости и инклюзивности кооперационных механизмов, чтобы смягчить их исключительный характер.
Эта стратегия полностью соответствует дипломатической традиции Китая, не поддерживающего односторонние альянсы, и в то же время позволяет избежать ярлыка «антизападного блока», особенно в условиях усиливающихся американско-европейских технологических блокад. В таких обстоятельствах сохранение стратегической гибкости становится решающим фактором для Китая.
Глядя в будущее, роль Китая в евразийских вопросах безопасности станет еще более активной, однако выбор пути потребует балансировки влияния и управления рисками. Углубление интеграции «Один пояс, один путь» с региональными механизмами, расширение ШОС (например, путем принятия Ирана) для повышения репрезентативности — вот ключевые шаги, которые могут оказать значительное влияние. В то же время через «Глобальную инициативу безопасности» Китай предложит неконфронтационный кооперационный механизм, который не только сбалансирует исключительные структуры, возглавляемые Россией, но и предоставит малым и средним странам возможность выбрать «третью дорогу».
Кроме того, усиление сотрудничества с Центральной Азией, создание «промежуточных зон» — например, продвижение проектов в области цифровой экономики в Казахстане — позволит снизить вероятность конфликтов путем экономической интеграции, тем самым укрепив основы китайской стратегии «стабильности на Западе».
В целом, данный документ не просто очерчивает стратегические ориентиры и задает вектор будущего развития, но и демонстрирует проницательное предвидение грядущих глобальных трансформаций. Однако его реальное воздействие во многом будет определяться конкретными шагами государств на международной арене, динамикой геополитических процессов и степенью адаптации предложенных принципов к изменяющимся реалиям. Выпуск этого документа знаменует собой нечто большее, чем очередную декларацию — он предлагает международному сообществу новую парадигму глобального управления, закладывая прочный фундамент для многостороннего взаимодействия, защиты государственного суверенитета и укрепления принципов международного права. Он не только формирует интеллектуальную и концептуальную основу для развития Евразии, но и прокладывает дорогу к созданию справедливой, инклюзивной и сбалансированной системы международных отношений.
Особенно в условиях стремительного переосмысления мирового порядка и трансформации многосторонних механизмов его значение трудно переоценить. Этот документ ярко подчеркивает лидерские амбиции стран-инициаторов, их стратегическое видение и готовность сыграть ключевую роль в формировании новой архитектуры безопасности и сотрудничества, укрепляя тем самым евразийскую интеграцию и содействуя выстраиванию глобального партнерства на принципах стабильности, предсказуемости и равноправия.
В конечном счете взаимодействие Китая и России в евразийской архитектуре безопасности является своего рода «оттачиванием» двух различных парадигм многополярности. Россия должна осознать принцип «не вступать в альянсы», лежащий в основе китайской политики, и одновременно искать общие интересы в таких сферах, как выработка правил и установление технологических стандартов. В свою очередь, Китай должен стремиться к тонкому балансу между поддержкой российской повестки по «девестернизации» и сохранением собственной стратегической гибкости.
Процесс перестройки евразийского порядка, вероятно, станет своего рода полигоном для новых великих держав, где будет опробован новый формат международных отношений XXI века. Перестройка евразийского порядка — это не только вызов, но и возможность. Этот процесс по сути является полигоном для новых великих держав, где они будут исследовать новые парадигмы международного управления. Успех или неудача стратегического взаимодействия Китая и России зависит не только от координации краткосрочных интересов, но и от способности выйти за пределы традиционных рамок в плане идеологической инклюзивности и институциональных инноваций. Только таким образом Евразийский континент сможет преобразоваться из «поля большой игры» в основную опору многополярного мира.
Суждения и выводы могут не совпадать с точкой зрения ПИР-Центра и являются исключительно взглядом автора
Ключевые слова: Евразийская безопасность; Китай; Россия
RUF
F8/SEL – 25/04/10