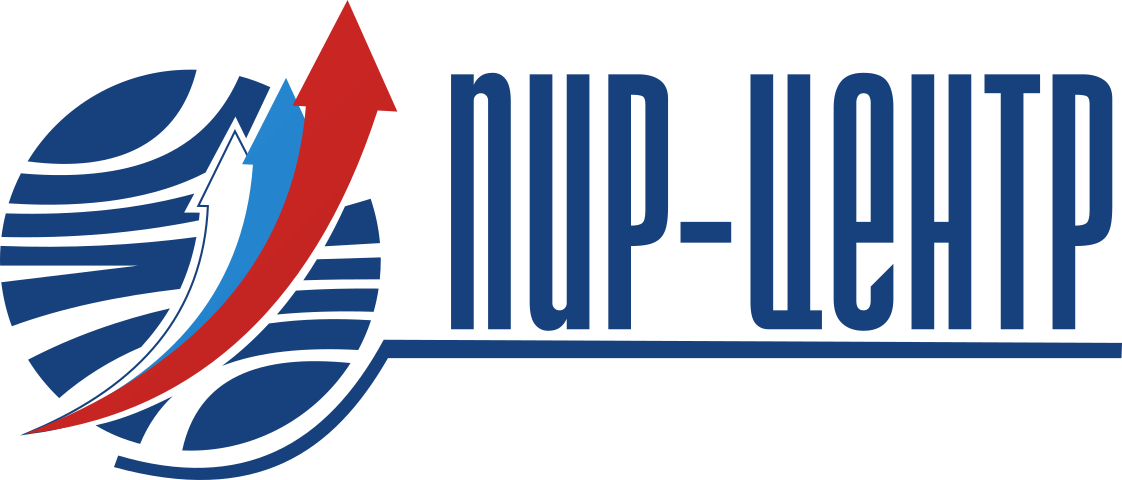В 2019 году эксперт по внешней политике Ирана, британский журналист иранского происхождения М. Абедин опубликовал книгу под вышеупомянутым названием (Iran Resurgent: The Rise and Rise of the Shia State). Очевидно, что тавтологический речевой оборот использован автором неслучайно (вспомним классический труд Пола Кеннеди «Взлет и падение великих держав» 1987 года) и отражает один из основных тезисов книги – о феноменальной успешности внешней политики Тегерана. Первостепенной целью автора является раскрытие основных (в первую очередь, исторических) особенностей формирования внешней и оборонной политики Исламской республики и того, как их совокупность позволяет Тегерану реализовывать свои внешнеполитические цели. Интересна позиция автора, который придерживается преимущественно положительной оценки перспектив иранской внешней политики в регионе, так как в научной среде доминирует представление, что революционные амбиции Хаменеи опасны и представляют реальную угрозу военного конфликта регионального масштаба с глобальным последствиями.[1]
В качестве первой характерной черты иранской внешней политики можно отметить особую роль шиитского ислама. С принятием ислама (который не был исконной религией персов, но вытеснил традиционные зороастризм, христианство, иудаизм в результате арабского завоевания в VII в. н.э.) политические институты Ирана стали развиваться под значительным влиянием исламских принципов, в частности, строгой иерархичности. Этим обусловлен и расцвет после 1979 года политических институтов по обеспечению национальной безопасности, когда на смену «рыхлой» структуре государственного аппарата шахского режима пришло многообразие структур, контролирующих и сдерживающих деятельность друг друга и совместно реализующих стратегические цели революционного режима. К таковым относятся, в частности, Совет по определению политической целесообразности, Совет стражей Конституции, а также Корпус стражей Исламской революции (КСИР).
Как и любой другой идеологии, Исламской революции присуща определенная система понятий, дискурс, объединяющий политические действия союзников Ирана в регионе. Этот дискурс получил название так называемой оси сопротивления (axisofresistance) и объединил шиитские и близкие к ним этно-конфессиональные группы в Йемене, Ираке, Ливане, Сирии под эгидой КСИР и их экспедиционной армии Аль-Кудс. Важный фактор общности целей оси – историческое положение шиитского населения в ряде стран региона. Так, например, в Бахрейне представителям шиитского меньшинства запрещается занимать офицерские должности. Иными словами, доступ к политической власти шиитам всячески ограничивается, в то время как Иран искусно это эксплуатирует: особенностью иранской региональной стратегии сдерживания является отсутствие прямого военного конфликта с соседними странами. Вместо этого Тегеран ведет так называемые опосредованные войны (proxywars), опираясь на формируемые из тех самых «угнетенных» меньшинств гибридные отряды.
Возвращаясь к Корпусу стражей революции, стоит напомнить, что миссия Корпуса не связана с поддержанием территориальной целостности и защитой государственного суверенитета (функции, традиционно выполняемые военными структурами), о чем свидетельствует и наличие параллельной Корпусу структуры, а именно регулярной армии (Артеш), но предполагает защиту идей Исламской революции. Несмотря на это, как утверждает Абедин, внешнеполитические структуры и Корпус не соперничают друг с другом, когда дело доходит до реализации внешнеполитических инициатив. В качестве примера можно привести поддержку Тегераном правительства Ассада в Сирии. С одной стороны, в Тегеране заинтересованы в сохранении сирийского режима, так как Сирия является, по сути, единственным формальным союзником Ирана в регионе (со времен ирано-иракской войны 1980–1988 гг.). В то же время поддержка алавитов (к которым принадлежат как семья Ассада, так и большинство ключевых политических фигур в стране) является принципиально важной и с идеологической точки зрения, так как эта ветвь мусульманского учения считается близкой шиизму.
При этом интересно заметить, что Абедин на протяжении своего анализа высказывает несколько противоречивые суждения. Так, он неожиданно приходит к заключению, что, несмотря на в целом успешное ведение амбициозной внешней политики, Тегерану не всегда удается маневрировать между собственными идеологическими мотивами, с одной стороны, и интересами национальной безопасности, с другой. Например, в той же Сирии авторитет Исламской Республики был подорван, когда о масштабах урона и количестве гражданского населения, пострадавшего от боевых действий армии Асада (включая применение химического оружия) стало известно международному сообществу и исламскому миру, в частности. Что неудивительно, ведь идеи Исламской революции противоречат практике уничтожения мусульманского населения, естественным образом отталкивая от Ирана суннитское население соседних стран.
Помимо «войн чужими руками», другими компонентами региональной внешнеполитической стратегии Тегерана являются ракетная, а также ядерная программы. Абедин подчеркивает особую роль именно ракетной программы, что также обусловлено рядом исторических факторов. В этой связи стоит обратить внимание на вторую особенность региональной стратегии Тегерана, а именно преемственность приоритетов оборонной политики со времен шахского режима. Так, ракетная программа была инициирована еще при последнем шахе Пехлеви (приблизительно с 1970-х гг.), что указывает на наличие региональных амбиций как у монархического, так и у республиканского Ирана. Иными словами, ракетный арсенал должен использоваться прежде всего для демонстрации силы и обеспечения роли регионального лидера. В этой связи на ум приходит и другое «наследие» эпохи шаха: во время войны в Дофаре в 1960-1970-х гг. шах поддержал Оманского султана, который в итоге одержал победу над мятежниками. С тех пор между двумя государствами сохранились дружественные отношения, подтверждением чему является тот факт, что именно Оман выступил посредником во время кулуарных встреч Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке.[2]
Несмотря на ракетные разработки в период правления шаха, фактически ракетный арсенал возник только во время ирано-иракской войны как способ уравновесить военную мощь иранских войск (основу которых составляли КСИР) по отношению к иракской армии, закупившей военную технику – прежде всего, баллистические ракеты, как у США, так и у Советского союза. Именно вследствие травмирующего опыта «войны городов» (так как после обретения обеими сторонами ракетных боеголовок военные действия приобрели характер обмена ракетными ударами, целью которых было уничтожение городов противника) ракетная программа приобрела более важное – в том числе, символическое – значение, нежели ядерная. Таким образом, неудивительно, что заявления предыдущей и текущей американских администраций о том, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) необходимо дополнить, встроив в него ограничения по иранской ракетной программе, встретили столь жесткое сопротивление в Тегеране. По неуместности данное предложение можно поставить в ряд с попыткой включения вопроса о нестратегическом ядерном оружии в переговоры по стратегической стабильности Москвы и Вашингтона, – о чем совсем недавно говорил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в своем интервью газете «Коммерсантъ».
В этой связи заслуживает внимания замечание заслуженного научного сотрудника СИПРИ Роберта Келли по вопросу о реальности угрозы иранской ядерной программы: «Демонстрация способности производить 60-процентный уран, как представляется, является для Ирана задачей более важной, нежели сам факт производства этого материала».[3] Данное заключение представляется обоснованным и указывает на то, что готовность к отстаиванию национальных интересов по-прежнему является внешнеполитической константой Исламской республики. Позиция Тегерана как бы говорит нам: «Нас больше не удастся застать врасплох». Вообще стоит отметить, что Тегеран по праву можно считать мастером внешнеполитических сигналов. Так, в апреле этого года Организация по атомной энергии Ирана объявила об успешном производстве металлического урана с обогащением 20% согласно новому Стратегическому плану действий по отмене санкций и защите интересов иранского народа, утвержденному Меджлисом 2 декабря 2020 года. Другие участники «ядерной сделки» расценили данный шаг как прямое нарушение СВПД, согласно которому Иран имел право на производство урана с обогащением до 3,67%.
Обеспокоенность международного сообщества связана с тем, что производство низкообогащенного урана (с обогащением до 20%) требует больших усилий, нежели обогащение от 20 до 90%, а, значит, с учетом текущих темпов прогресса Иран сможет в короткие сроки заявить о производстве оружейного урана. Однако нужно учитывать тот факт, что восстановление урана до металлической формы (о чем заявили иранские власти) не является последовательным шагом в технологии обогащения газообразного урана (гексафторида урана, UF6), посредством которой и получают ядерный боезаряд. Иными словами, производство металлического урана скорее отдалило Тегеран от возможности обладания ядерным оружием. В то же время, как было отмечено, освоение особенностей металлургии урана не является технологическим прорывом для иранской ядерной промышленности. Напротив, разработки на заводе по конверсии урана в Исфахане стали достоянием общественности еще в начале 2000-х гг., а в 2003 и 2011 гг. технологии производства металлического урана подверглись официальным инспекциям МАГАТЭ.[4] Таким образом, производство металлического урана едва ли является демонстрацией новых технологических возможностей и не указывает на стремление Ирана (по крайне мере, в настоящее время) вступить в клуб ядерных держав.
Безусловно, отход Ирана от требований СВПД, а также юридическое закрепление в законодательстве требований активизации ядерных разработок не могут не вызывать опасений. Кроме того, беспокоит вопрос о том, что ядерные объекты (при том, что ядерный потенциал страны, как нередко заявляет Хаменеи, является «национальной гордостью» страны) охраняются не регулярной армией, а именно Корпусом стражей. Неясно, чьи интересы ядерная программа может быть призвана защищать – национальные интересы государства или идеологические цели шиитского ислама? Тем не менее, даже с учетом данных обстоятельств роль ядерной программы в военной стратегии Ирана изучена недостаточно. Так, например, непонятно, как создание ядерного оружия могло бы вписываться в существующую региональную стратегию сдерживания, которой последовательно придерживаются в Тегеране.
***
Известно, что попытки правильно понять намерения другой стороны и правильно на них отреагировать традиционно являлись первостепенной, но крайне сложной задачей международной дипломатии. Как было отмечено выше, для понимания проблематики иранской ядерной программы важно учитывать как фактор поддержки Ираном региональных гибридных формирований, угрожающих правящим суннитским элитам по всему региону, так и историческое значение ракетной и ядерной программ и их роль в формировании иранской национальной идентичности. На фоне этого не менее важно отличать политический шантаж от реальных намерений – в первую очередь, относительно перспектив «горизонтального» распространения ядерного оружия.
[1] См., напр., Uskowi, Nader. (2019). Temperature Rising: Iran’s Revolutionary Guards and Wars in the Middle East. – Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield. – 205 с.
[2] Secret talks set stage for Iran nuclear deal. // BBC News. 25 ноября 2013. [электронный ресурс]. Доступно: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-25086236.
[3] Kelly, Robert. (2021). Why is Iran producing 60 percent uranium? SIPRI Commentary. 29 апреля 2021. [электронный ресурс]. Доступно: https://sipri.org/commentary/essay/2021/why-iran-producing-60-cent-enriched-uranium.
[4] Kelly, Robert. (2021) How much of a proliferation threat is Iran’s uranium enrichment. // SIPRI Commentary. 16 апреля 2021 [Электронный ресурс]. Доступно: https://sipri.org/commentary/essay/2021/how-much-proliferation-threat-irans-uranium-enrichment.