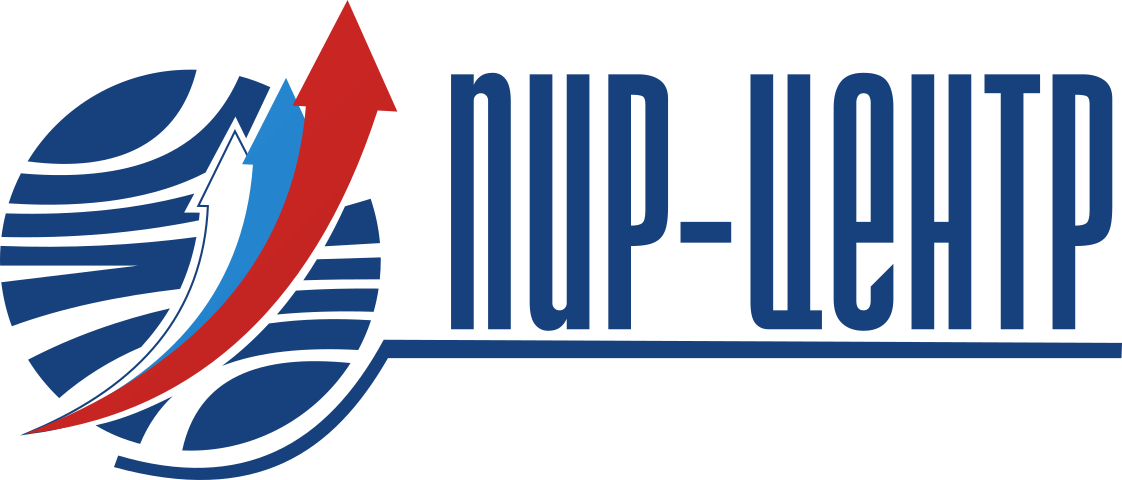8 октября 2025 года Государственная Дума на пленарном заседании приняла законопроект, внесенный кабинетом министров России, о денонсации Соглашения об утилизации плутония, подписанного с США в 2000 году и ратифицированного в 2011 году.
Одновременно с основным соглашением было принято решение об денонсации двух сопутствующих протоколов, регулирующих финансирование, гражданскую ответственность и технические детали утилизации плутония путем облучения в ядерных реакторах.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков во время своего доклада перед депутатами Государственной Думы заявил следующее: «Сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом данного соглашения, неприемлемо и нецелесообразно с каких-либо точек зрения».
Он напомнил, что соглашение было приостановлено указом президента России Владимира Путина в 2016 году.
В апреле 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что США, в отличие от России, не выполняют обязательства по уничтожению плутония. «Мы свои обязательства выполнили, мы это предприятие построили. Наши американские партнеры – нет». Тогда же он добавил, что Россия не вышла из договора об уничтожении избыточного количества оружейного плутония, а приостановила действие, в отличие от США, вышедших из договора по ПРО.
В 2000-м году Россия и США договорились утилизировать по 34 тонны плутония, извлеченного из демонтированных ядерных зарядов после массового сокращения ядерных арсеналов в 1990-х годах в рамках СНВ-1.
Соглашение долгое время считалось символом доверия эпохи после Холодной войны. Его подписание произошло на фоне завершения острой фазы разрядки и стремления создать новую архитектуру стратегической стабильности в мире после распада Советского Союза. Для Москвы и Вашингтона соглашение стало не просто документом о материальном уничтожении оружейного плутония, а символом готовности сверхдержав строить отношения на основе взаимного доверия и технологического сотрудничества. Россия рассматривала его как шаг к укреплению режима нераспространения ядерного оружия и возможность продемонстрировать готовность к равноправной работе в сфере глобальной безопасности.
Таким образом, соглашение было одним из важных шагов на пути к ядерному разоружению.
Россия выполнила свои обязательства: В Железногорске (Красноярский край) был построен завод по переработке плутония в МОКС-топливо, используемое в ряде АЭС для производства электроэнергии, и введен в эксплуатацию реактор БН-800 (на быстрых нейтронах) Белоярской АЭС (Свердловская область).
Технологическая сторона соглашения имела особое значение. Использование MOX-технологии – переработки плутония в топливо для гражданских реакторов – обеспечивало необратимость процесса утилизации. Такой подход создавал реальную гарантию того, что избыточный плутоний не может быть возвращён в военный оборот. Для специалистов в области стратегической безопасности это было не просто техническое новшество, а элемент укрепления доверия между сторонами. С точки зрения России, соглашение демонстрировало, что ядерная стабильность возможна только при соблюдении равных правил и процедур верификации, а любые попытки одностороннего изменения технологий и контроля могут разрушить всю систему доверия.
С самого начала подходы России и США к соглашению принципиально различались. Россия исходила из принципа равноправия: утилизация 34 тонн плутония рассматривалась как вклад в глобальную безопасность и инструмент формирования стабильного режима доверия. США же, начиная с 2010-х годов, постепенно отходили от исходных договорённостей. Одним из первых проявлений этого стала замена MOX-технологии на метод «разбавления и захоронения» (dilution & disposal), который не обеспечивает полной необратимости плутония. В отличие от переработки в топливо для реакторов, «разбавление» позволяет в теории сохранить возможность восстановления военного потенциала, что фактически нивелировало основной смысл соглашения для России.
Дополнительно к технологическим изменениям, США демонстративно отказались финансировать ключевой объект переработки в Саванна-Ривер. Этот шаг, сделанный Вашингтоном как экономическая корректировка, для Москвы стал сигналом о том, что обязательства США больше не рассматриваются как равноправные. Вместо совместной ответственности и доверия в основе соглашения возникла ситуация, когда одна сторона определяет правила игры самостоятельно, оставляя другую сторону лишь наблюдателем, вынужденным адаптироваться. Таким образом, американская политика по плутонию стала символом широкой тенденции к одностороннему подходу в ядерной сфере.
На фоне этого Россия была вынуждена приостановить исполнение соглашения в 2016 году. Эта приостановка часто трактуется внешними наблюдателями как акт одностороннего выхода, однако внутри России он рассматривался как вынужденная реакция на длительные нарушения США и агрессивную политику в отношении России. Односторонняя смена технологии, отказ от финансирования и снижение прозрачности контроля демонстрировали нежелание американской стороны соблюдать условия договора. Москва подчёркивала, что любые попытки согласовать новые условия воспринимались Вашингтоном как уступка, а не как проявление равноправного диалога. При этом российская позиция была принципиальной: приостановка не была попыткой выйти из режима утилизации, а сигнализировала о разрушении механизмов доверия, на которых соглашение базировалось.
Денонсация соглашения в 2025 году стала логическим завершением процесса, начавшегося ещё в 2010-х. Она не была реакцией на технические детали или конкретные споры вокруг объектов, а выражала стратегический выбор России в условиях, когда режим международной безопасности перестал работать на принципах равноправия. Российская Федерация чётко дала понять: сохранение документа в прежнем виде было бы не шагом к стабильности, а актом стратегического самоограничения. Денонсация стала сигналом о том, что Россия готова отстаивать свои интересы в новой архитектуре безопасности, где односторонние действия США больше не могут быть приняты как норма.
Контекст денонсации напрямую связан с модернизацией американского ядерного арсенала. Новостное агентство National Public Radio (NPR) и другие медиа в начале 2025 года публиковали материалы о планах США по проведению субкритических испытаний и даже гипотетических сценариях «взрыва плутония» для поддержания боеспособности арсенала без формального выхода из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Секретный проект Cygnus, демонстрирующий новые технологии контроля и обращения с плутонием, стал инструментом публичной легитимации американской модернизации, одновременно укрепляя стратегическое преимущество США и сигнализируя о политической независимости от международных ограничений. В этих условиях соглашение по плутонию превратилось в политическую ширму: формально демонстрировалась готовность к разоружению, фактически создавались «запасные пути» к сохранению и даже восстановлению военного потенциала.
Для России это означало, что любые попытки сохранить соглашение при сохранении первоначальных принципов были бы бессмысленны. Односторонние действия США не только нарушали технологические нормы, но и создавали де-факто инструмент контроля над российским ядерным арсеналом. Показы возможностей обращения с плутонием в СМИ, такие как проект Cygnus и публикации NPR, формировали образ «транспарентной обороны», одновременно укрепляя американское стратегическое преимущество и сигнализируя о возможности действий без учёта мнения партнёра.
С точки зрения Москвы, приостановка и последующая денонсация соглашения стали вынужденной реакцией на долгую практику нарушения договорной дисциплины. Россия подчёркивала, что односторонние изменения технологии и отказ от совместного финансирования проекта демонстрируют неспособность США рассматривать международные соглашения как равноправные обязательства. Одновременно это отражало более широкий контекст: США, не ратифицировавшие ДВЗЯИ, требовали соблюдения обязательств от других ядерных держав, используя соглашение по плутонию как инструмент контроля над Россией. Сохранение действующего документа без выполнения ключевых положений США было бы не только бессмысленным, но и потенциально опасным, поскольку соглашение теряло свою функцию как гарант стратегической стабильности.
Денонсация соглашения выявила кризис верификации и глобального доверия. В условиях, когда ключевой игрок не соблюдает обязательства по технологическому контролю, системы мониторинга и проверки становятся формальными. США сохраняют за собой право определять, какие договоры действуют, а какие могут быть изменены односторонне. Для России это создает глубокий кризис доверия: международные обязательства не могут опираться на добрую волю одной стороны, если другая страна использует эти договоры как инструмент геополитического давления. Ситуация также отражается на стратегической стабильности: неспособность обеспечить симметричные обязательства и надежную верификацию превращает любые документы о нераспространении в декларативные формы, лишённые реальной силы. Денонсация соглашения по плутонию в 2025 году сигнализирует о необходимости создания новой архитектуры контроля, основанной на взаимной ответственности и технологической транспарентности, а не на доверии к политической воле одного государства.
Медийный фон, формируемый NPR и другими источниками, стал важным элементом новой парадигмы ядерной политики США. Публикации о планах субкритических испытаний, демонстрации возможностей обращения с плутонием и проектах типа Cygnus создавали у американской аудитории образ технологически оправданной и публично легитимной модернизации арсенала, одновременно укрепляя стратегическое преимущество США. Для России этот медийный фон стал символом того, что информационная транспарентность используется не как инструмент доверия, а как механизм формирования легитимности действий, не подкреплённых юридическими обязательствами. Публичные демонстрации оборудования и проектов заменяют реальные договорные гарантии и создают иллюзию контроля, одновременно ограничивая возможности других ядерных держав.
Денонсация соглашения 2025 года стала не только юридическим актом, но и очередным стратегическим сигналом о смене парадигмы внешней политики России в области международной безопасности. Режим договорного контроля по плутонию оказался заменён режимом односторонних действий, при котором международные гарантии не могут опираться на доверие к одной сверхдержаве. Россия показала, что стратегическая стабильность требует симметрии обязательств и недопустимости использования механизмов нераспространения как инструмента геополитического принуждения. Сегодня судьба соглашения по плутонию отражает более широкую проблему глобальной безопасности: если международное сообщество не создаст новые равноправные механизмы контроля, мир вступит в эпоху атомного недоверия и односторонних действий.
Таким образом, российские действия нельзя рассматривать как акт конфронтации. Это, скорее, констатация факта: эпоха иллюзий о стратегическом партнёрстве завершена. Наступает время политической ответственности, основанной на симметричных обязательствах, прозрачной технологии и реальной верификации. Международное сообщество стоит перед выбором: либо оно признает необходимость создания новых равноправных механизмов контроля вооружений и сотрудничества, либо мир войдёт в эпоху стратегической неопределенности и создаст условия для новой гонки вооружений, где любое соглашение будет лишь декларацией без реальной силы.
Ключевые слова: Международная безопасность; Ядерное нераспространение; Контроль над вооружениями
NPT
E16/SHAH – 25/10/24