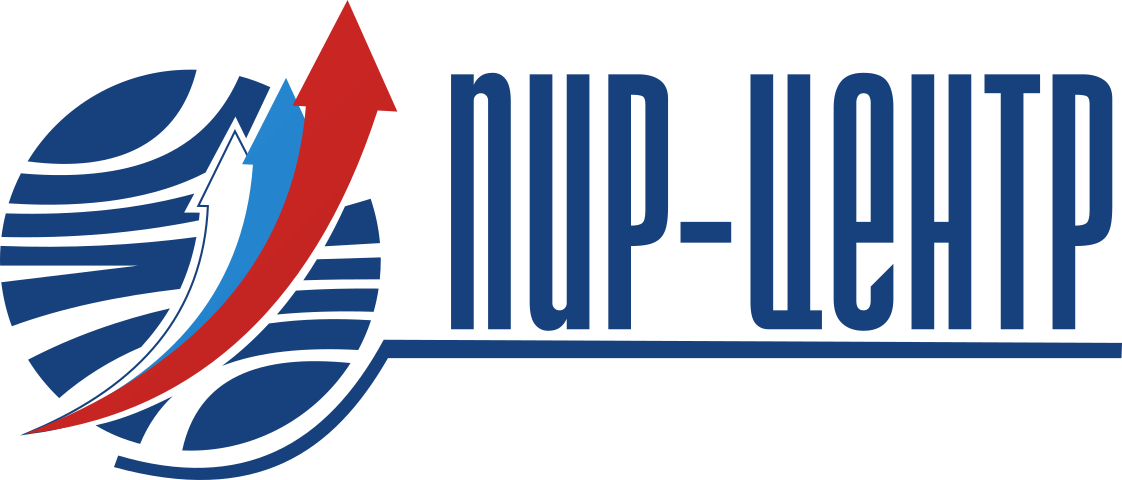Эксклюзивное интервью
В конце 1990-х Sea Launch казался фантастикой: ракета, стартующая не с космодрома, а с гигантской морской платформы посреди океана, прямо у экватора. За этой картинкой стояли сложные переговоры, рискованные инвестиции и уникальное сотрудничество инженеров из России, Украины, США и Норвегии. Как удалось объединить технологии и интересы бывших соперников, в чём заключалась уникальность морской платформы и какие перспективы ждут этот амбициозный проект в современных условиях – читайте в интервью с Вадимом Козюлиным, главным научным сотрудником Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, членом Совета ПИР-Центра.
Интервью провёл Юрий Шахов, редактор блока «Информация и цифровые коммуникации» ПИР-Центра.
Юрий Шахов: Почему именно Sea Launch стал одним из редких примеров, когда российские, американские, украинские и норвежские технологии смогли интегрироваться в единый работающий проект, и какие уроки из этого можно извлечь для будущих совместных космических инициатив?
Вадим Козюлин: Sea Launch представляет собой уникальный случай технологической конвергенции, ставший возможным благодаря совпадению нескольких факторов. Прежде всего, это была эпоха технологической совместимости – каждый участник обладал критически важными, но взаимодополняющими компетенциями: Россия предлагала двигатели РД-171 – на тот момент наиболее эффективные в мире ракетные двигатели замкнутого цикла, а также разгонный блок ДМ-SL. Украина предоставляла базовую ракету «Зенит» с уникальной степенью автоматизации подготовки к пуску. США обеспечивали системную интеграцию, финансирование и доступ к мировому рынку коммерческих пусков. Норвегия вносила морские технологии и опыт работы с плавучими платформами в открытом океане.
Ключевым фактором успеха стало оптимальное сочетание рисков и выгод. В условиях экономического кризиса 1990-х для России это был способ монетизации высоких технологий при сохранении технологического суверенитета. Для США – возможность получить доступ к недорогим и надежным ракетным системам, одновременно предотвратив «утечку мозгов» в нежелательные страны. Проект также выиграл от создания наднациональной корпоративной структуры, зарегистрированной на Каймановых островах, что обеспечило правовую автономию от национальных юрисдикций и позволило избежать прямого политического контроля.
Для гипотетически возможных будущих инициатив критически важны следующие принципы: создание автономных международных управленческих структур, четкое разделение технологических ниш, использование коммерческих механизмов для деполитизации проектов, и главное – поиск сфер взаимной технологической зависимости, где односторонний выход из кооперации невыгоден всем участникам.
Юрий Шахов: Как проект отражал оптимизм и «дух сотрудничества» «постхолодной» эпохи, и можно ли этот опыт воспринимать как модель для снятия политических барьеров в других сферах?
Вадим Козюлин: Sea Launch стал материальным воплощением концепции «конца истории» Фрэнсиса Фукуямы – идеи о том, что геополитическая конкуренция уступает место экономической кооперации на основе взаимной выгоды. Проект стал символом перехода от военного противостояния к мирному использованию передовых технологий. Особенно показательно, что в основе лежали конверсированные военные разработки: двигатели РД-171 изначально создавались для советской сверхтяжелой ракеты «Энергия», предназначенной для военных целей, а «Зениты» разрабатывались как межконтинентальные баллистические ракеты. Их коммерческое применение буквально воплощало библейский принцип превращения «мечей в орала». Проект создавал стимулы для расширения взаимодействия в смежных сферах, Sea Launch породил множество побочных проектов между участниками в области космических технологий.
События 2014 года привели к фактическому замораживанию проекта. Тем не менее, опыт Sea Launch остается актуальной моделью для таких областей, как кибербезопасность, климатические технологии, медицинские исследования – сфер, где национальные интересы в значительной степени коррелируются с глобальными вызовами.
Юрий Шахов: В чём заключалась уникальность управленческой модели Sea Launch и в какой мере эта модель служила инструментом дипломатии и выстраивания доверия между странами-участниками, и может ли она вновь сыграть такую роль в нынешних условиях?
Вадим Козюлин: Управленческая архитектура Sea Launch сочетала элементы межгосударственного сотрудничества с механизмами корпоративного управления. Консорциум функционировал как частная компания, зарегистрированная в нейтральной юрисдикции (на Каймановых островах, что обеспечивало правовую автономность от национальных юрисдикций), но с долевым участием, отражавшим технологический вклад каждой стороны. Центральным элементом стала система консенсусного принятия решений при оперативном управлении со стороны Boeing. Это создавало уникальный механизм взаимного сдерживания – любой участник мог заблокировать стратегические решения, но никто не мог доминировать односторонне. В определенном смысле это напоминало принципы работы Совета Безопасности ООН, только в коммерческом формате.
Проект требовал формирования устойчивых межведомственных контактов, постоянной координации между Роскосмосом, NASA, украинским космическим агентством и норвежскими морскими структурами. Особенно примечательной была техника разрешения конфликтов: споры решались через независимые арбитражные механизмы, а не дипломатические каналы. Когда в 2009 году возник спор между Boeing и РКК «Энергия» на $330 млн, он был урегулирован в американском суде путем предоставления пяти мест на российских «Союзах» для астронавтов NASA.
В современных условиях подобная модель могла бы быть адаптирована для проектов в области космической ситуационной осведомленности, мониторинга космического мусора, астероидной защиты – областей, где национальные интересы объективно совпадают.
Юрий Шахов: Какие позитивные эффекты Sea Launch оказал на космическую отрасль в целом – от снижения стоимости пусков до продвижения морских стартовых технологий?
Вадим Козюлин: Проект продемонстрировал практические преимущества экваториальных запусков, обеспечивавших увеличение полезной нагрузки на 15-20% по сравнению с высокоширотными космодромами, что радикально улучшало экономику пусковых услуг. К 2008 году Sea Launch предлагал коммерческие запуски по цене $100-120 млн, что было весьма конкурентоспособно на фоне европейского Ariane [прим. ред. – Arianespace – французская компания, основанная в 1980 году для коммерческих запусков ракет-носителей] и создавало здоровое ценовое давление на рынке. Проект фактически демократизировал доступ к космосу для средних коммерческих операторов.
В технологическом плане Sea Launch стал пионером автоматизированных пусковых систем. Ракета «Зенит-3SL» была одной из первых полностью роботизированных ракет, способных к беспилотной подготовке и запуску. Эти наработки сегодня активно используют SpaceX и другие частные операторы.
Проект стимулировал двусторонний технологический трансфер. Российские и украинские предприятия получили доступ к западным стандартам качества и системам управления проектами. Западные компании освоили высокоэффективные двигательные технологии – тот же РД-180, созданный на основе РД-171, до сих пор используется в американских ракетах Atlas V.
Sea Launch также доказал коммерческую жизнеспособность морских космодромов. Сегодня аналогичные проекты развивают SpaceX с морскими платформами для Falcon Heavy, различные китайские компании, российский проект «Морской старт».
Sea Launch подтолкнул формирование глобального рынка пусковых услуг, где сегодня частные операторы на равных основаниях конкурируют с национальными космическими программами.
Юрий Шахов: Какие направления космической деятельности – от коммерческих мегагруппировок до миссий по исследованию Луны – могли бы стать драйверами спроса на услуги Sea Launch в ближайшие годы?
Вадим Козюлин: Современная космическая экономика переживает период экспоненциального роста. Если абстрагироваться от политической ситуации, для возрождения Sea Launch сложилась благоприятная рыночная конъюнктура.
Наиболее перспективный рыночный сегмент представляют мегагруппировки спутников связи. Китайские проекты G60 Starlink (планируемые 12 000+ спутников) и Guowang (13 000 спутников) потребуют сотни пусков в ближайшее десятилетие. Для геостационарных спутников связи экваториальные запуски обеспечивают оптимальную энергетическую эффективность – это неоспоримое конкурентное преимущество.
Лунные программы открывают новые возможности. Российская лунная программа, китайские миссии Chang’e, американский проект Artemis, а также растущее число частных лунных миссий создают спрос на мощные ракеты. Модернизированная ракета с экваториального старта могла бы выводить к Луне до 22-23 тонн против 17 тонн с Байконура.
Быстрорастущий сегмент спутников дистанционного зондирования Земли оценивался в $17,94 млрд в 2024 году с прогнозируемым ростом до $35,95 млрд к 2030 году. Sea Launch мог бы специализироваться на групповых запусках малых и средних спутников на солнечно-синхронные орбиты.
Перспективным направлением являются коммерческие космические станции, которые постепенно заменят МКС. Частные станции компаний Axiom Space, Vast, Gateway Foundation потребуют регулярных грузовых поставок и ротации экипажей.
Особую нишу может занять космический туризм премиум-класса. Возможность наблюдения старта с комфортабельного судна в открытом океане -это туристический продукт высшей категории.
Юрий Шахов: Мог ли бы Sea Launch стать символическим и практическим проектом «перезапуска» российско-американских отношений в случае политической воли лидеров – и каким образом встреча Путина и Трампа могла бы использовать его для демонстрации взаимной готовности к сотрудничеству?
Вадим Козюлин: Историческая ирония состоит в том, что встреча на Аляске – территории, некогда проданной Россией США, – для обсуждения возрождения российско-американского технологического проекта обладает почти литературной завершенностью. Это могло бы стать мощным сигналом о способности к взаимовыгодным решениям даже в эпоху геополитической напряженности.
Практические преимущества очевидны для обеих сторон. Россия получает доступ к западным рынкам и технологиям. США снижают чрезмерную зависимость от SpaceX в сегменте тяжелых коммерческих пусков. Возрождение Sea Launch помогло бы решить проблему американской зависимости от российских двигателей РД-180, создав альтернативную модель кооперации.
Механизм реализации мог бы включать создание нового международного консорциума под эгидой специального межправительственного соглашения. Материальная база проекта сохранена – платформа «Одиссей» и командное судно находятся в российском порту Славянка и технически пригодны для восстановления. Sea Launch мог бы стать пилотным проектом, тестом на способность к рациональному сотрудничеству в эпоху геополитического соперничества.
Ключевые слова: Морской старт; Россия; США; Космос
RUF
E16/SHAH – 25/08/11