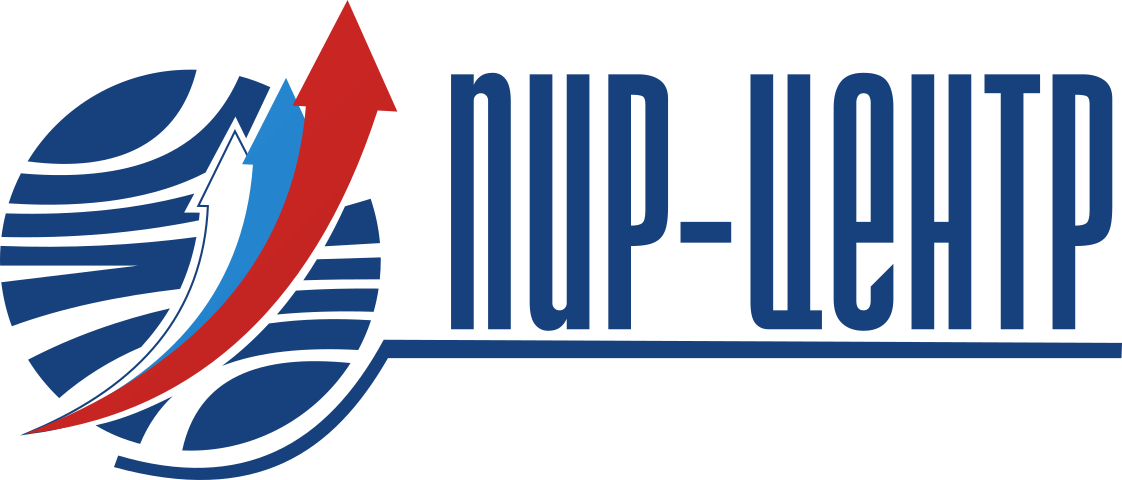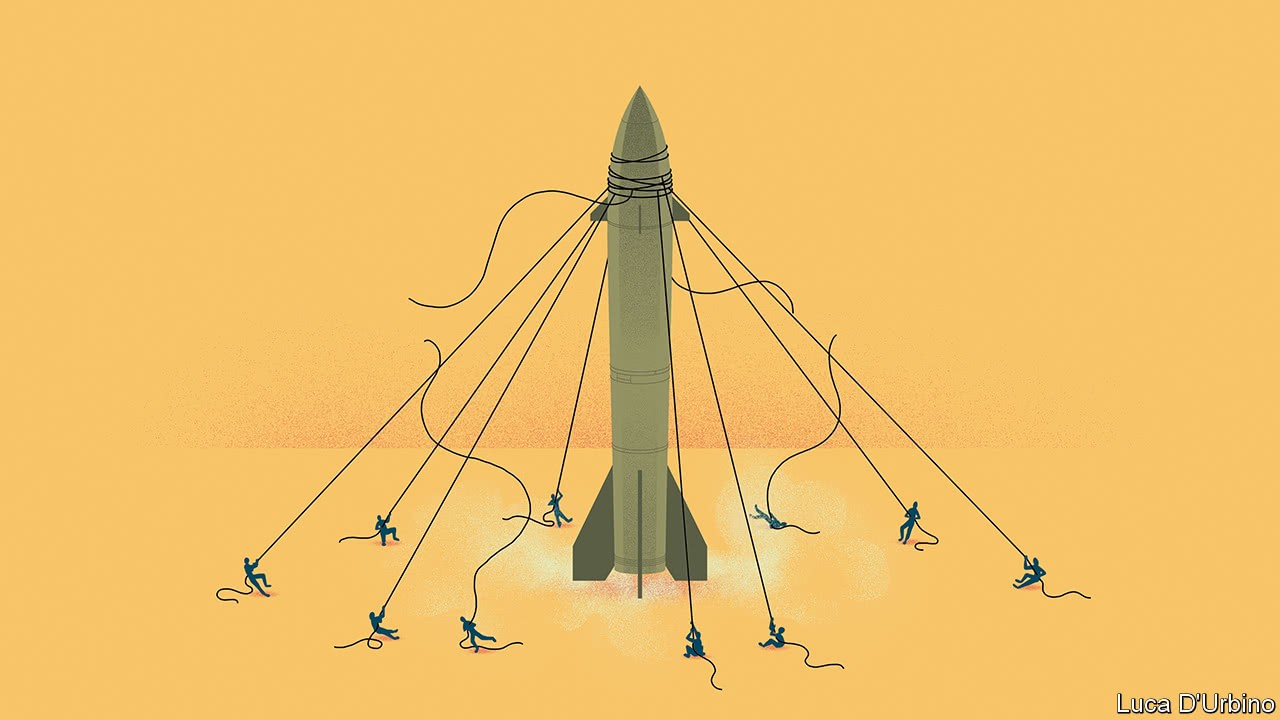Эксклюзивное интервью
В конце августа президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы к новым переговорам с Россией о замене Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В свете данных событий ПИР-Центр провел интервью с Игорем Вишневецким, Чрезвычайным и Полномочным Посланником 2-го класса (в отставке), заместителем директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России (2021–2023), независимым экспертом.
В ходе интервью обсуждались вопросы восстановления режима контроля над вооружениями между Россией и США, перспективы возобновления действия или замены Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также текущие проблемы и вызовы, стоящие перед системой контроля над вооружениями и глобальной безопасности на современном этапе.
Интервью провел редактор Блока «Информация и цифровые коммуникации» ПИР-Центра Артем Аствацатуров.
Артем Аствацатуров: Как Вы оцениваете перспективы взаимодействия в деле контроля над вооружениями между Россией и США?
Игорь Вишневецкий: Администрация Байдена сделала максимум для того, чтобы, по сути, разрушить отношения России и США в целом, и диалог о стратегической стабильности, в частности, а также сделать двусторонние отношения конфронтационными. И от этой политики не выиграл никто.
В широком понимании стратегическая стабильность во многом выстраивалась на российско-американском фундаменте. Благодаря «деятельности» администрации Байдена этот фундамент оказался серьезно подорван.
Президент Трамп, как представляется, настроен на то, чтобы постараться выправить эту ситуацию и нормализовать прерванные связи. Во всяком случае, разговор на эту тему между нашими странами ведется.
Напомню: США сделали первыми шаги, чтобы осложнить взаимные отношения. Именно в Вашингтоне целенаправленно торпедировали многое из того, что выстраивалось в прошлом годами, а порой десятилетиями ценой больших усилий. Россия со своей стороны предпринимала ответные меры, но почти никогда не действовала упреждающе.
Да мы и не были в этом, собственно говоря, заинтересованы. У нас всегда сохранялась потребность в добрососедских отношениях с Вашингтоном, учитывая вес США в мире, и то, насколько они важны для решения вопросов международной безопасности.
Президент Дональд Трамп заявлял о заинтересованности в том, чтобы возобновить диалог с нами по стратегической стабильности, в том числе на предмет заключения соглашения с Россией на замену Договора СНВ-3.
Но ничего нового, кстати, в этом нет. Предыдущая американская администрация говорила примерно то же самое. Она утверждала, что Москве и Вашингтону необходимо продолжать разговор по СНВ и сторонам следует выходить на какие-то новые договоренности, которые придут на смену этому договору, который истекает в феврале следующего года.
То, что озвучивается сейчас – это продолжение внешней американской политики. В этой части, как раз, никаких изменений в риторике США нет.
Правда администрация Байдена, говоря о своих намерениях, одновременно одной рукой призывала к сотрудничеству, а другой размахивала дубинкой с санкциями, угрозами и многими другими негативными вещами, которые делали невозможным полноценный разговор о контроле над вооружениями. Какой может быть диалог на эту тему с людьми, которые заведомо к нормальным отношениям с тобой не готовы.
У президента Трампа наблюдается другой подход. Мы, как представляется, видим настрой на сближение и желание продолжить разговор по проблематике СНВ и по широкому кругу других вопросов международной безопасности.
Проблематика стратегической стабильности и СНВ в недавнем прошлом регулярно обсуждались между Москвой и Вашингтоном на высоком дипломатическом уровне. Традиционно консультации по стратегической стабильности велись на уровне заместителей министров иностранных дел. Состояние и развитие системы контроля над вооружениями, в контексте данного обсуждения, имели главенствующее значение.
Надо лучше понять, что нынешнее американское руководство имеет в виду под возобновлением стратегического диалога. Если главным в Вашингтоне видят дискуссию по СНВ в части, касающейся дальнейшего сокращения стратегических наступательных вооружения, если опять нам в качестве приоритетных вопросов повестке дня будут навязывать тему Ирана, проблематику Корейского полуострова, то это одна ипостась. Конечно, все перечисленное являются важным, и по обозначенным темам мы [прим. ред. – Россия] вели и готовы вести предметный разговор. Но, как представляется, особенно в нынешних условиях, это далеко не исчерпывающий перечень вопросов в плане приоритетов.
Думается, у российской стороны имеется более широкое понимание того, что помимо указанной проблематики должно обсуждаться в нынешнее непростое турбулентное время, и что имеет прямое отношение к нашей национальной безопасности.
Словом, следует определиться в акцентах. Пока все заявления и комментарии, которые исходят из Вашингтона, в т. ч. на самом высоком уровне – только лишь слова. Посмотрим, что будет дальше в плане конкретики.
Но намерение, сама по себе готовность американской стороны разговаривать о перспективах контроля над вооружениями в новых геополитических реалиях можно только приветствовать.
Артем Аствацатуров: История показала, что зачастую жесткие внешнеполитические стратегии республиканских администраций сопровождались кризисом в области стратегической стабильности. На Ваш взгляд, сможет ли жесткая внешнеполитическая риторика президента Дональда Трампа повлиять на возникновение новых кризисов в области стратегической стабильности?
Игорь Вишневецкий: Мой скромный дипломатический опыт говорит о том, что в принципе американская внешняя политика на различных этапах всегда отличается нюансами, а вот ее вектор всегда общий – обеспечение национальной безопасности США и сохранение американской гегемонии в мире. А нюансы они проявляются в тактике достижения этих целей.
Мне кажется, что в последние годы с республиканскими администрациями, несмотря на кажущуюся их жесткость во внешнеполитическом курсе, разговаривать было проще. Во всяком случае политика, устремления американцев и предпринимаемые ими дипломатические шаги были более предсказуемы и понятны. А с администрациями демократов было сложнее, поскольку их действия были зачастую закамуфлированы, менее последовательны и многое иногда подавалось таким образом, что истинные намерения американской стороны выявить было непросто. Не все со мной согласятся в этом, но таковы мои личные ощущения.
Сейчас стоит подождать и увидеть какие-то практические шаги со стороны США, чтобы осознать, насколько далеко они готовы пойти в деле нормализации российско-американских отношений. Тем более, что президент Трамп часто бывает непредсказуем, меняет свою риторику, причем иногда на 180 градусов, из-за чего трудно предугадать в каком направлении будет развиваться американская политика дальше.
В американской политическом поле персональная роль президента крайне важна, но в Вашингтоне существует целая система сдержек и противовесов, внутренних ограничителей, требующих учета. Президент всегда ощущает на себе давление, и ему приходится действовать в определенных рамках.
Будем надеяться, что развитие событий пойдет по позитивному сценарию, но полной гарантии, что это будет именно так, никто не даст.
Артем Аствацатуров: Кремль ещё в 2023 году дал понять, приостановив участие России в СНВ-3, что диалог по стратегической стабильности невозможно вести в отрыве от украинской проблемы. На Ваш взгляд, мог ли прошедший саммит в Анкоридже повлиять на пересмотр подхода американской администрации к контролю над вооружениями?
Игорь Вишневецкий: Очень хотелось бы верить в то, что вслед за челночной дипломатией Стива Уиткоффа, помощника и личного друга президента Трампа, и недавним российско-американским саммитом на Аляске, мы увидим нечто осязаемое в улучшении российско-американских отношений. Разрешение украинского кризиса безусловно является ключом к этому.
Переговоры на Аляске между нашими президентами были в основном посвящены разрешению украинского кризиса. Были достигнуты определенные понимания, возник сдержанный оптимизм. Но дальше мы видим действия со стороны США, которые настораживают. Дональд Трамп твердит о том, что, он может изменить свою позицию в случае, если одна из сторон конфликта, не проявит реального желания скорейшего завершения боевых действий. Намекает о возможности введения новых американских санкций, кивая в сторону России.
Американская сторона то угрожает нам санкциями, то их не откладывает. Это, очевидно, у нее идет такая игра в «кнут и пряник». Но нас санкциями-то не запугаешь. Россия огромная и самодостаточная держава. Антироссийских санкций было введено немерено, но ничего такого особенного и принципиально гибельного для нас не происходит. А для европейцев, к примеру, из-за их собственной санкционной политики наоборот – происходит.
Еще один пример: американская администрация громогласно, устами президента, заявила, что вопрос с финансовой и военной помощью Украины закрыт и американские деньги на Украину тратиться не будут – «мы больше не станем передавать им своё вооружение, пусть этим занимаются европейцы». Но что делается на практике? США готовы продавать свое оружие европейским странам, а те в свою очередь заявляют о планах дальнейшей передачи его Киеву. Все обставляется как чистый бизнес.
Это вообще верх цинизма. Какая нам разница, напрямую американские военные поставки пойдут Украине или через европейцев. Этими ракетами, бомбами и снарядами будут убивать наших солдат, наших граждан. Так вот, чему верить? Миротворческим намерениям американского президента или такого рода антироссийским акциям американской администрации?
Кстати говоря, моя последняя длительная загранкомандировка в Нидерланды пришлась на то время, когда голландским правительством было принято решение о закупке у США новейших истребителей F-35, а старые истребители F-16 голландцы после начала СВО решили передать Украине, что, как я понимаю, и было сделано.
Такая вот двуличная политика. А причем или не причем здесь американцы? Причем, потому что когда правительство продает кому-либо свое оружие, то всегда в соглашениях на этот счет оговаривается, что его передача возможна только с согласия экспортера. Так работает мировая система торговли оружием. Это юридическое и политическое обязательство: ни одна европейская страна никогда не реэкспортрует американское оружие кому бы то ни было, если на это не будет согласия США – причем согласия не устного.
Говоря словами великого комбинатора Остапа Бендера из бессмертного произведения Ильи Ильфа и Евгении Петрова «12 стульев», «сделка возможна при согласии и непротивлении сторон». Термином «сделка» президент США Дональд Трамп, как успешный в прошлом бизнесмен, часто оперирует в своих высказываниях. И если исходить из данной риторики, то восстановление российско-американских отношений и их важной составляющей – предметного разговора между ведущими ядерными державами о контроле над вооружениями – можно считать своеобразной сделкой, от которой обе стороны получат ощутимую выгоду.
Надеюсь, в Вашингтоне отчетливо осознают, что интересы России придется учитывать. В противном случае, возвращаясь к терминологии Трампа, «сделка» не получится и стороны останутся при своем.
И еще одно необходимое отступление, важный штрих к картине будущего контроля над вооружениями причем не только в контексте возможного российско-американского дискурса по данной проблематике. Как говорили древние философы, «нельзя войти в одну и ту же реку дважды». Это изречение актуально и для нынешней ситуации, когда круто меняется парадигма международных отношений. Как представляется, в будущих переговорах о нераспространении и разоружении (будь то на двустороннем или многостороннем уровне) вряд ли удастся действовать в прежнем, апробированном годами и десятилетиями русле, использовать старые клише. Скорее всего здесь произойдут серьезные изменения и в плане формата, и в плане существа решаемых задач. Любые новые переговоры потребуют несколько иного взгляда и подхода. Они будут отличаться от тех, которые велись в прошлом, поскольку исходные условия меняются буквально на глазах и мир стал другим, полицентричным, динамичным во всех отношениях, глобальным в хорошем смысле этого слова.
Артем Аствацатуров: Пражский договор неоднократно подвергался критике из-за отсутствия высокоточного оружия США и стратегического неядерного оружия в качестве вооружений, подвергаемых постепенному ограничению (сокращению) сторонами. На Ваш взгляд, если новый СНВ и будет заключен, то какие изменения он может претерпеть по сравнению с ныне действующим Пражским договором?
Игорь Вишневецкий: Действительно, некоторые эксперты критиковали отсутствие в ДСНВ высокоточного оружия, стратегического неядерного оружия. Но мне кажется, что эти темы не станут доминирующими, если и когда вдруг вновь начнутся переговоры с США по проблематике СНВ.
Вопрос состоит в том, о чем мы будем договариваться., что выберем предметом переговоров на этот раз. Реально ли, например, договориться сейчас о чем-либо большем, чем сохранение нынешних потолков по носителям и боеголовкам, предусмотренных ДСНВ? Честно говоря, сомневаюсь в этом.
Реалии таковы, что российское стратегическое оружие является более новым, чем американское. Россия уже провела модернизацию своего ядерного арсенала. То есть у нас он более современный, чем у Вашингтона, у которого это в процессе. Это означает, что если начать дальнейшие сокращения, то США будут избавляться от своего устаревающего оружия, а мы будем «резать» свой новейший ядерный арсенал. Неадекватный обмен получится.
Таким образом, такое развитие исключено. Но даже не это в данный момент беспокоит в первую очередь, а то, что дальнейшее сокращение СНВ в условиях продолжения развития США системы глобальной ПРО несет прямую угрозу нашей национальной безопасности.
Американцы настолько вложились в эту свою программу [прим. ред. – ПРО], что они не отступят здесь ни на шаг, потому что за их планами стоят колоссальные прибыли американского ВПК, а в совершенствовании ПРО они видят важнейший инструмент поддержания своего глобального доминирования и обеспечения национальной безопасности. Мы тоже развиваем свои системы стратегической ПРО, но у нас, конечно, масштабы этого гораздо скромнее, чем у США. Да мы, собственно говоря, пошли другим путем: в первую очередь модернизируем СНВ и нестратегическое ядерное оружие таким образом, чтобы наши ракеты гарантированно «пробивали» любой противоракетный щит. Это прекрасно работает на сдерживание. Один «Орешник» чего стоит.
Следует также учитывать и то, что в Вашингтоне пошли на меры, которые не могут не сказаться на судьбе любых будущих переговоров по стратегическим вооружениям. Я имею в виду разрушение американцами ДРСМД [прим. ред. – Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]. После наших вынужденных ответных мер этот договор прекратил свое существование, а это имеет огромнейшее значение для проблематики СНВ.
По мощности боеголовок ракеты средней дальности соизмеримы со стратегическими носителями. Сейчас развитие ядерных вооружений идёт таким путём, что какие-то там мощнейшие мегатонные боеголовки никто не собирается принимать на вооружение, а речь идет о неуязвимости ракет и точности нанесения ядерных ударов не по площадям, а по конкретным целям.
Причем, гипотетическая эффективность таких ударов повышается с помощью РГЧ ИН [прим. ред. – разделяющейся головной части индивидуального наведения] и ложных боеголовок. Мощность здесь не главное. Поэтому, скажем, стратегическая ракета с РГЧ и несколько ракет среднего радиуса действия с близкими по мощности боеголовками способны в случае ядерного обмена ударами нанести абсолютно соразмерный ущерб – только траектория ракет будет несколько иная. А если ракеты среднего и малого радиуса действия будут размещены в нашем подбрюшье, – ведь американцы это делают и планируют это делать на территории своих партнеров по НАТО, – то для нас это колоссальнейшая угроза. Именно этот фактор стал главным аргументом в пользу необходимости пойти в советское время на подписание ДРСМД.
Гиперзвуковые ракеты вообще практически невозможно перехватить и уничтожить ныне существующими системами ПРО. Оснастить такую ракету ядерной боеголовкой и поставить ее где-то вблизи границ соперника означает гораздо большую опасность нежели наличие МБР [прим. ред. – межконтинентальные баллистические ракеты], размещенных где-то на территории Соединенных Штатов Америки. Подлетное время уменьшается. А значит сокращается и время на ответ.
Поэтому, ключевой вопрос, который возникает в настоящее время: что конкретно хотят предложить нам США, говоря о том, что они готовы к началу дискуссии о новом договоре на замену ДСНВ? Скорее всего, разговор на эту тему рано или поздно все равно состоится, если будут нормализованы отношения. А к чему он приведет – сложно предсказать.
Артем Аствацатуров: Можно ли рассчитывать, что в случае восстановления российско-американского диалога по стратегической стабильности, помимо кластера вопросов ограничения стратегических наступательных вооружений сторон, будет обсуждаться реализация инициативы, выдвинутой Китаем, о заключении ядерными странами договора о неприменении первыми ядерного оружия?
Игорь Вишневецкий: Наши китайские коллеги редко выдвигают какие-нибудь глобальные инициативы, но вот в данном случае их предложение, конечно, заслуживает внимания – оно интересно само по себе.
Если внимательно взглянуть на суть того, что может представлять из себя подобный договор, то очень много мыслей возникает. Мне кажется, что для американцев важен несколько иной вопрос – как можно было бы вовлечь Пекин в разговор по проблематике СНВ при содействии Москвы, потому что возрастающая ядерная мощь КНР серьезно тревожит американский политистеблишмент.
В Вашингтоне ищут разные подходы к китайцам по данной теме, но китайская сторона на эти американские заходы реагирует весьма холодно. А вот китайскую инициативу заключения договора о неприменении первыми ядерного оружия первыми, они [прим. ред. – США], скорее всего (как это часто американцы практиковали в прошлом в иных обстоятельствах) выразят готовность обсуждать в качестве, так сказать определенного довеска к главному, своеобразной «вишенки на торте». Где сам торт – это согласие Пекина на предметное обсуждение темы СНВ, будь то в двустороннем формате с США, будь то в трехстороннем формате с Россией и США. Американцы, я полагаю, не исключают и такого варианта. То есть в качестве дополнения к переговорам по СНВ вполне возможно обсуждение американцами указанного китайского предложения.
Что касается возможного содержания китайской инициативы и ее воплощения в виде юридически обязывающего договора, то тут есть над чем подумать. Если такой договор был бы сродни политической декларации, то вряд ли он сыграет существенную роль в повышении международной безопасности. Ядерной войны между ядерными державами не должно быть в принципе: в ней не будет победителей, будут только одни побежденные. И в случае обмена ядерными ударами разбираться кто начал войну будет незачем и некому.
Когда некоторые эксперты начинает рассуждать на предмет того, сколько раз та или иная страна может уничтожить другую существующим ядерным арсеналом – у меня подобная полемика вызывает скептическую улыбку. Зачем кого-то вешать 10 раз, когда достаточно и одного. И даже одна боеголовка, которая долетит, условно говоря, до столицы какого-либо государства, нанесет такой необратимый ущерб и вызовет такую катастрофу, которую трудно даже себе вообразить.
Тут я позволю себе немножко «пофантазировать» с учетом того, что являюсь независимым экспертом и не связан условностями. Предлагаемый Китаем договор в плане эффективности был бы состоятелен, если бы он подкреплялся некими элементами, позволяющими ему стать по-настоящему рабочим инструментом.
Скажем, если бы такой договор предусматривал механизмы, когда на территории ядерных государств, в центрах принятия решений о применении ядерных сил, находились бы высокопоставленные полномочные представители других ядерных держав, участников договора, и они имели бы оперативную связь с военным руководством той страны, где они расквартированы, а также со своими столицами, чтобы при возникновении любых маломальских сомнений и непониманий оперативно вмешиваться в ситуацию и содействовать ее разрешению. То есть не давать выйти этой ситуации из-под контроля. При подобных встроенных механизмах договор имел бы серьезное практическое значение.
Почему я сказал о фантазиях на эту тему? Потому что о подобной степени транспарентности и доверия между ядерными державами пока можно только мечтать. Возможно, когда-нибудь в перспективе мы к этому и придем, и тогда мир действительно станет безопаснее и стабильнее.
Артем Аствацатуров: Какие основные проблемы Вы можете выделить в качестве «камня преткновения» на пути развития российско-американского диалога по стратегической стабильности?
Игорь Вишневецкий: Как я себе представляю, есть вопросы, особенно связанные с санкциями, которые нуждаются в решении со стороны Конгресса США и поэтому потребуют немалого времени для урегулирования. Но некоторые вопросы, например проблема авиасообщения между Россией и США, могут быть оперативно решены в течение пары недель при наличии политической воли. И это видится вполне реальным на фоне заявлений американской стороны о готовности к улучшению российско-американских связей. К числу таких проблем можно отнести также и восстановление нормальной дипломатической работы: возвращение нам дипломатической собственности, переход к прежней к практике беспрепятственной выдачи виз и аккредитаций дипломатов в обеих странах. В общем, пока дипломатические каналы не начнут функционировать должным образом, у нас мало что получится.
Вести диалог по стратегической стабильности без нормализации дипотношений между Россией и США невозможно. Пока не будут созданы необходимые условия для такого рода общения, никакого глубокого диалога быть не может.
Если брать сферу контроля над вооружениями уже в глобальном масштабе, то улучшение здесь ситуации невозможно без многостороннего формата. Однако разговор в профильных международных организациях в последнее время почти застыл, а если и ведется, то по рутинным и второстепенным вопросам, или же по Украине, когда западная коалиция использует эти площадки для нападок на Россию. Ясно одно: эта сфере вновь оживится только тогда, когда политический климат изменится, будут расчищены многие завалы. А такой сдвиг в немалой степени зависит от США.
Это надо четко понимать и не строить на этот счет никаких иллюзий. Россия готова вести разоруженческий диалог, в том числе и с США. Но для этого должны появиться необходимые заделы.
Образно говоря, пока политические грозовые тучи не развеются, пока у США не возникнет стойкое желание взаимоуважительно говорить с нами не столько и не только об Украине, об Иране, КНДР, но и о других важных вопросах международной безопасности, пока в Вашингтоне окончательно не определятся с тем, что им важнее – сдерживание на грани конфронтации или сотрудничество с Россий, вряд ли мы увидим что-либо позитивное в нашей двусторонней повестке дня.
Ключевые слова: Стратегическая стабильность; Россия–США; Контроль над вооружениями
AC
E16/AST – 25/09/12