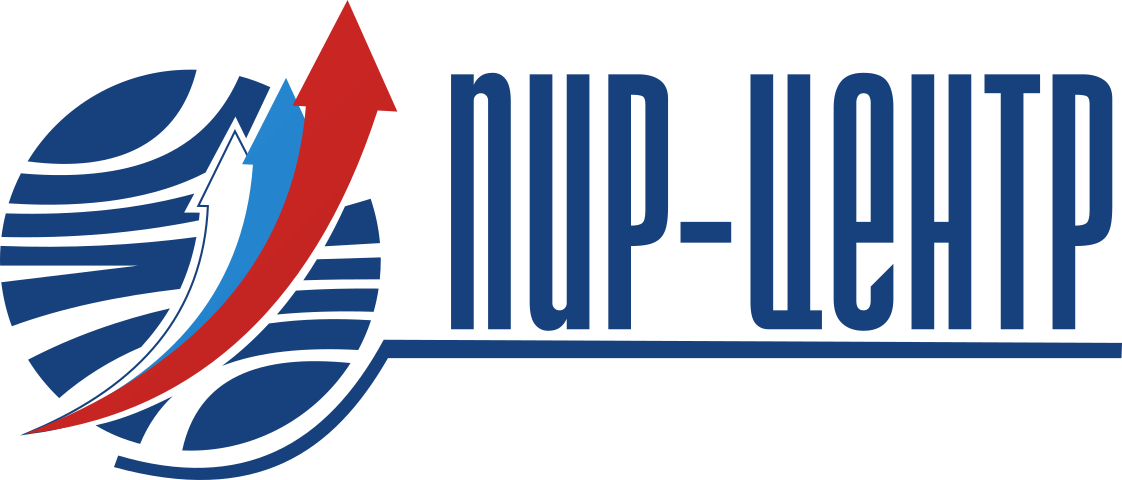Эксклюзивное интервью
Спустя десятилетие после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) вокруг иранской ядерной программы остаётся актуальным вопрос: стал ли СВПД прочной опорой для режима ядерного нераспространения или лишь временным дипломатическим манёвром, не выдержавшим давления геополитических реалий?
ПИР-Центр провел интервью с Андреем Баклицким, старшим научным сотрудником Программы по оружию массового уничтожения Института ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР), членом Экспертного совета ПИР-Центра и Леонидом Цукановым, кандидатом политических наук, консультантом ПИР-Центра.
Интервью провёл Юрий Шахов, редактор блока «Информация и цифровые коммуникации» ПИР-Центра.
Юрий Шахов: Каково главное стратегическое наследие СВПД спустя 10 лет? Считаете ли вы, что он изменил парадигму нераспространения ядерного оружия или остался временной дипломатической мерой?
Леонид Цуканов: СВПД сыграл важную роль в истории нераспространения ядерного оружия. Стал примером хорошо проработанного (пусть на практике и не слишком долговечного) соглашения. И, что важнее, полностью отвечал духу времени – совпадал (на момент заключения) с интересами всех его участников; являлся символом единения противостоящих лагерей и фракций. В порядке напоминания: к моменту заключения СВПД в июле 2015 г. Россия уже находилась в состоянии экономической конфронтации с США и странами ЕС, а между Германией, Францией и аппаратом Евросоюза шли трения вокруг проекта «единой европейской армии». Тем не менее, дипломаты перечисленных стран вполне эффективно работали сообща, доведя сделку до финала. Тем самым подчеркнув приоритет глобальных механизмов регулирования над проблемами «местного характера». Сейчас с единением позиций дело обстоит иначе: США, «Евротройка» и тандем «Россия – КНР», фактически, работают над сделкой каждый в своей области и ориентируясь на собственное видение финального формата новой «сделки». Нахождение по разные стороны баррикад в ряде конфликтов усложняет поиск компромиссного варианта. Как итог, отличается и «дух» второго соглашения – диктуемый уже не столько идеей глобального регулирования, сколько стремлением к выигрышному статус-кво.
Андрей Баклицкий: СВПД разрабатывался как ответ на конкретную, запутанную ситуацию, которая к тому моменту вызывала обеспокоенность уже более двадцати лет. Его заключение – результат сложного дипломатического процесса, который, по крайней мере до 2018 года, рассматривался как значительный успех. Этот опыт, безусловно, не мог не повлиять на подход международного сообщества к решению задач в сфере нераспространения. Но на протяжении всех этапов переговоров подчёркивалось: СВПД – это не прецедент и не основа для установления новых норм или обязательств для других государств.
Юрий Шахов: Что показал опыт СВПД о пределах и возможностях дипломатии в условиях асимметрии сил и интересов? Какие уроки извлекли ключевые участники (Иран, ЕС, Россия, Китай, США) о доверии, дипломатии и санкционной политике?
Леонид Цуканов: Отчасти на этот вопрос я уже ответил выше. Что касается «уроков», то каждый интерпретирует наследие СВПД по-своему. Для США ключевой урок, с одной стороны, в том, что международный вес Вашингтона достаточен для того, чтобы без последствий покидать неудобные договорные форматы; с другой – в том, что попытка чуть ослабить позиции Ирана в рамках сделки привела к их заметному укреплению и ослаблению внешнего контроля над национальным «атомным проектом». Иран, судя по всему, окончательно разочаровался в американском подходе к регулированию – к одностороннему выходу США из СВПД в 2017 г. добавилось нарушение Вашингтоном сроков собственного ультиматума и нанесение им ударов по иранской ядерной инфраструктуре до его формального истечения. Тегеран продолжает публичное дистанцирование от Вашингтона, но пока полностью не закрывает «переговорное окно», рассчитывая, видимо, на содействие остальных гарантов. Что касается РФ, КНР и «Евротройки», они постепенно приходят к мысли, что цепляться за наследие СВПД с течением времени становится все менее осмотрительно. Изменившиеся условия международных отношений требуют выработки нового соглашения, с новой (отвечающей вызовам времени) системой гарантий. Хотя «идейную основу» первой «ядерной сделки» по-прежнему стремятся сохранить все без исключения гаранты.
Андрей Баклицкий: СВПД стал итогом последних на сегодняшний день масштабных переговоров в ядерной сфере – политически и технически сложных, с участием множества сторон и учётом их различных интересов. Как и любой компромисс, он не был идеальным, но оказался решением, которое устраивало всех участников и позволяло двигаться вперёд. Сложно сказать, какие именно уроки можно извлечь из выхода Вашингтона из СВПД и дальнейшего распада договоренностей. Удары США и Израиля по иранской ядерной программе стали демонстрацией того, как может выглядеть альтернатива дипломатии – и вряд ли кто-то из вовлечённых сторон может считать её удачной. Опыт СВПД показал, что даже в самых непростых условиях можно находить решения, если есть политическая воля и готовность вкладываться – дипломатически, экономически, институционально. Но представить себе такую же мобилизацию ресурсов сегодня – крайне сложно. Тем не менее, эта история ещё не завершена, так что итоги подводить пока рано.
Юрий Шахов: Можно ли говорить, что СВПД стал примером кризисной устойчивости международных соглашений, или он продемонстрировал их уязвимость?
Леонид Цуканов: Справедливо и то, и другое. СВПД действительно стал венцом многолетних дипломатических усилий большой группы государств (включая «ядерную пятерку») и позволил вывести иранскую ядерную программу из категории «токсичных тем». Но в то же время при разработке плана не был в полной мере учтен пессимистичный сценарий – что будет, если вдруг кто-то из гарантов захочет подорвать основы «сделки» для достижения тактических целей? Отчасти из-за отсутствия «запасного рецепта» остальные посредники не смогли вытянуть СВПД обратно в рабочее состояние или добиться заключения соглашения-«преемника». Хотя, справедливо говоря, в 2015 году мало кто предполагал, что политический популизм сможет нанести настолько большой удар архитектуре безопасности – как на Ближнем Востоке, так и в целом.
Андрей Баклицкий: СВПД показал, что многосторонние соглашения обладают большей устойчивостью по сравнению с двусторонними – те могут быть разорваны в одночасье по инициативе одной стороны. Вместе с тем он также продемонстрировал, что при активном сопротивлении одного из ключевых игроков даже широкий международный консенсус способен лишь отсрочить кризис, но не предотвратить его полностью.
Юрий Шахов: Кто несёт наибольшую ответственность за деградацию СВПД, и какие практические шаги возможны сегодня для выхода из тупика?
Леонид Цуканов: Основная ответственность за демонтаж «ядерной сделки» лежит на США – как стране, вышедшей из договора в одностороннем порядке. В 2017 году, покидая СВПД, Трамп рассчитывал быстро заключить второе, более выигрышное для Штатов, соглашение (в том числе ограничивающее развитие иранского космического сектора), но переговоры затянулись. После, при демократах, разговор также шел со скрипом, и ускорился лишь под занавес президентского срока Байдена. После этот позитивный тренд также перехватили республиканцы, продолжив непрямые переговоры в рамках «Оманской инициативы». Однако июньские события сильно подорвали доверие Тегерана и к переговорам, и к США. Очевидным выходом из Тупика является заключение новой сделки, с более прозрачными гарантиями (включая запрет одностороннего выхода), и попытки выработать такой формат продолжают и РФ, и КНР, и внутри «Евротройки». Однако для возобновления публичных переговоров должна стабилизироваться региональная обстановка. Без этого Иран, вероятнее всего, не пойдет на новую сделку – справедливо апеллируя к вопросам национальной безопасности.
Андрей Баклицкий: Сегодня многое зависит от позиции Ирана. Очевидно, что прежняя стратегия – активно развивать мирную ядерную программу в условиях максимальной прозрачности, рассчитывая использовать её как элемент сдерживания – себя не оправдала. Скорее всего, иранское руководство пересмотрит этот подход – в каком именно направлении, и станет главным вопросом на ближайшее время. Со своей стороны, Вашингтон демонстрирует стремление к переговорам и нежелание втягиваться в масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Контакты между сторонами продолжаются, но будет ли их достаточно чтобы достичь какой-либо договоренности никто сказать не может.
Юрий Шахов: В условиях нынешней геополитической турбулентности возможен ли аналог СВПД – не только по Ирану, но и в других чувствительных точках мира (например, КНДР, Ближний Восток в целом)?
Леонид Цуканов: Говорить об «аналогах СВПД» для других чувствительных зон, на мой взгляд, не совсем уместно, поскольку каждый вызов такого рода требует уникального подхода и учета гарантами всех имеющихся факторов, включая уникальные. Опыт (и итоги) «ядерной сделки», несомненно, берутся в расчет при подготовке к переговорам и при разработке новых международных инициатив, направленных на разрядку и повышение доверия стран в контексте нераспространения ядерного оружия. Однако проецирования данного соглашения на другие регионы и страны ожидать, я думаю, не стоит.
Андрей Баклицкий: Если ставить перед собой реалистичную цель, в которой заинтересованы все ключевые игроки и быть готовым вести серьезные переговоры – нет ничего невозможного. С другой стороны, именно отсутствие в мировых столицах реалистичного целеполагания и готовности решать вопросы дипломатическими мерами и привели нас к сегодняшней «геополитической турбулентности». Так что что-то должно измениться.
Ключевые слова: Иран, Ядерное нераспространение, Международная безопасность, МАГАТЭ, ДНЯО
NPT
E16/SHAH – 25/07/14