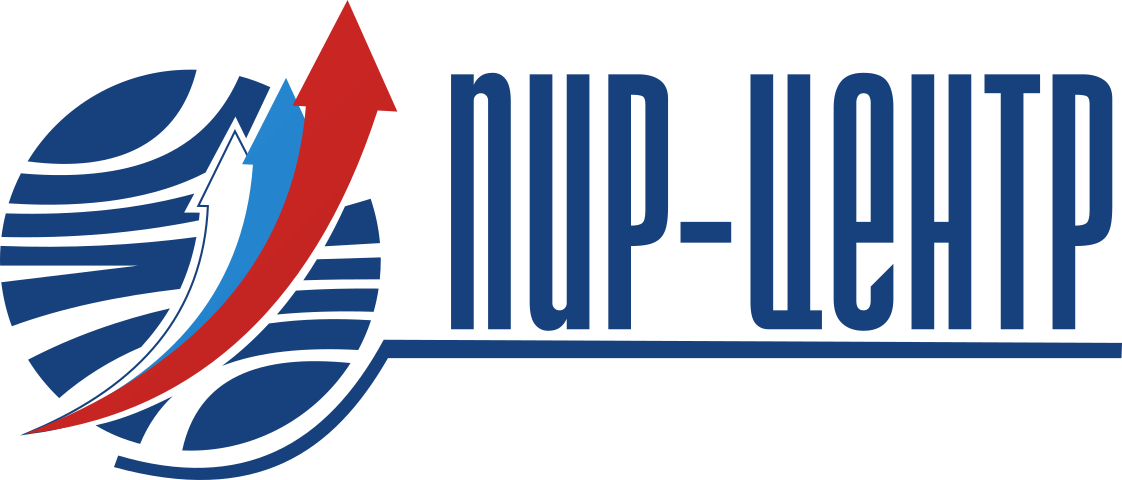Эксклюзивное интервью
Вступив в январе на пост президента США, Дональд Трамп пересмотрел линию своего предшественника и сделал ставку на размораживание российско-американского диалога. Соответствующий курс избрала и Москва. Тем не менее, отношения двух стран все еще осложнены рядом проблем, и в первую очередь украинским конфликтом. В интервью ПИР-Центру Иван Сафранчук, член Экспертного совета ПИР-Центра с 2015 г., оценивает актуальное состояние российско-американского диалога и рассуждает о его перспективах.
Интервью провел Илья Субботин, стажер ПИР-Центра.
Илья Субботин: Как Вы считаете, может ли до конца года состояться еще одна встреча Владимира Путина и Дональда Трампа? Сохранился ли, на Ваш взгляд, так называемый «дух Анкориджа»?
Иван Сафранчук: Новая встреча возможна. Думаю, в следующие полгода она более вероятна, чем в следующие два месяца. Но ничто – ни плохое, ни хорошее – сейчас не предрешено и не гарантированно. Мы не в унылом и предсказуемом «конце истории». История сейчас – это дикий мустанг, живая и непредсказуемая. «Дух Анкориджа» сохраняется в том смысле, что есть понимание, в каком направлении целесообразно двигаться. Но решимость Трампа преодолеть препятствия на этом пути ослабла.
Илья Субботин: Конфликт вокруг Украины остается одним из центральных элементов российско-американской повестки дня. Как Вы оцениваете миротворческие усилия Трампа на этом направлении, и насколько они согласуются с интересами России?
Иван Сафранчук: Трамп действует на контрасте с Байденом, и более широко – со своими политическими противниками, особенно с Обамой. Их доктринерству он противопоставляет здравый смысл. Здравый смысл толкает его в правильном направлении, но он же удерживает его от решительных действий, которые нужны для достижения мира. Поясню конкретнее. Администрация Байдена взялась нанести России стратегическое поражение, и вела против России, как сами американцы это называют, «войну по доверенности», то есть войну «чужими руками». При этом технически американцы подходили очень близко к грани непосредственного вовлечения, участвуя в выборе целей и применении некоторых видов вооружений. При общей критике из оппозиции Трампу казалось, что альтернатива байденовской линии – это мирные договоренности, тогда-то он и сделал многообещающее заявление о быстром урегулировании конфликта. Но на практике оказалось, что «делать не так, как Байден» – это отойти от грани непосредственного участия (и связанных с этим эскалационных рисков), снять с себя финансовое бремя, не относиться к украинскому кризису как главному конфликту современности и освободить руки для других задач. Все это Трамп сделал. Это уже в достаточной степени «по-другому», чтобы сторонники Трампа засчитали ему выполнение анти-байденовских предвыборных установок.
Конечно, Трапу хотелось бы прекращения конфликта при его деятельном участии. И по причинам самолюбия – они на поверхности, и по практическим соображениям. Остановка конфликта на условиях, с которыми все бы согласились, стала бы «нокаутирующим ударом» для противников Трампа. Это было бы уже такое «по-другому» (по сравнению с Байденом), которое бы не только сторонники, но и враги должны были бы признать.
Трампу нужны дивиденды. Таковые ему точно даст «заморозка» конфликта. Подлинное же урегулирование – это противоречивый вопрос для Трампа. Оно не может не быть болезненным для тех, кто сделал ставку на поражение России. Они готовы шуметь публично и вести закулисные интриги. Взявшись за урегулирование всерьез, Трамп может получить не «аплодисменты», а вал критики и множество «подножек». Пока Трамп не решается идти в этом направлении. Пробует, но отступает.
Илья Субботин: По Вашему мнению, какую роль играет европейский фактор – и прежде всего обструкционистская позиция Брюсселя в отношении урегулирования украинского конфликта – в налаживании российско-американского диалога?
Иван Сафранчук: Европейцы (за единичными исключениями) создают атмосферу, которая не дает Трампу идти в направлении действительного урегулирования. Почему? Я бы выделил такую основу, на которую наматывается множество других идеологических и практических соображений, формируя прочный кокон европейской позиции. Для многих европейцев мантрой стало утверждение Бжезинского: без Украины Россия – не империя. Эта фраза имеет триггер эффект. Не понятно: почему именно без Украины? Почему не империя? Не понятно, но присутствует чувство ужаса и трепета, ощущение познания геополитической тайны.
Европейцы уверены, что военными средствами Россия не может взять всю Украину. К тому же Россия говорит, что и не ставит перед собой такой цели. А значит, есть огромное поле игры на приличном расстоянии от того, что сами европейцы считают для себя настоящим проигрышем.
Одни европейцы несколько озадачены тем, что не удалось нанести России стратегическое поражение с наскока. Но верят, что Россию можно дожать, пусть и не так быстро, как хотелось бы. Наличие украинского кризиса легитимизирует такие усилия внутри самой Европы. Для других приоритет – это милитаризация Европы и подготовка к большой и прямой войне с Россией. Украина – важный ресурс для такой войны. Нынешняя цена за решение этих задач в виде сокращения территории, подконтрольной киевскому режиму, теми темпами, какими это сейчас происходит, для европейцев приемлема.
Подлинное урегулирование означало бы продолжение многовековой борьбы за то, где проходит граница между Западом и Россией, но невоенными средствами. После окончания холодной войны Европа явно переоценила свои силы. При снятии военного антироссийского угара к западникам, и прежде всего европейцам, может появиться много вопросов. Причем не только на Украине, но и в других странах, даже в Западной Европе. Европа расширялась от благополучия, и вот всего через двадцать лет оказывается необходимо рушить социально-экономические основы, чтобы защитить это расширенное европейское пространство. В соперничестве невоенными средствами нынешние европейские элиты могут в перспективе проиграть больше, чем военными. Поэтому урегулирование для них опасно. Лучший вариант – «заморозка», при ней можно несколько разгрузиться (тянуть конфликт с Россией при дистанцировании США европейцам все-таки тяжело), но сохранить политическую мобилизацию и антироссийский ажиотаж, не допуская нормальной дискуссии и конкуренции за будущее Европы.
Для Трампа пока достаточно, что европейцы обещают тянуть конфликт сами финансово и брать за него основную политическую ответственность. К тому же Трамп использует украинский конфликт как инструмент для своих тарифных войн с Индией и Китаем
Илья Субботин: Если говорить об отношениях между двумя странами в целом, имеются ли сегодня реальные сферы пересечения интересов России и США? В каких областях, на Ваш взгляд, возможно достижение договоренностей в кратко- и среднесрочной перспективе, и насколько устойчивыми они могут оказаться?
Иван Сафранчук: Очень долгое время, с середины прошлого века, в отношениях России и США огромный элемент был не про отношения двух стран, а про устройство мира и про мировую повестку. В годы холодной войны это были отношениях лидеров двух блоков. А после холодной войны наши отношения с США были отношениями с США как мировым гегемоном – опять же в значительной степени про мировые дела.
В уже во многом сформированном многополярном мире намного больше стало пространство «без США». БРИКС – главное практическое воплощение этого. А есть еще ШОС, есть российская идея новой архитектуры евразийской безопасности. Мне видится, что даже при нормализации отношений с США российские усилия по формированию мирового пространства «без США» должны продолжаться. Да, это – не «без США» из принципа, это – «без американского диктата». Но пока «без США» и «без американского диктата» – синонимы. И думаю, что еще долго это будут синонимы.
Отношения же с США – это, прежде всего, нормализация дипломатических отношений, восстановление нормальной работы дипмиссий, авиасообщения, культурных обменов и т.д., всего того, что уже давно считается просто нормой в отношениях стран и народов. Есть идеи масштабных экономических проектов – это тоже хорошо. Каждая сторона получит свою выгоду.
Илья Субботин: В сентябре Владимир Путин заявил о готовности России в течение как минимум года после истечения срока действия ДСНВ соблюдать установленные договором количественные ограничения. Дональд Трамп назвал эту инициативу «хорошей», однако официальный ответ Вашингтона до сих пор не последовал. Как Вы оцениваете вероятность того, что США примут российское предложение, и чем это может быть обусловлено?
Иван Сафранчук: Трамп дал позитивный сигнал по поводу предложения В. Путина, но не дал полноценного ответа. Пока, насколько можно судить, американцы рассматривают украинский кризис как «пробку», которая закупоривает все остальное.
Можно понять, почему с позиций трамповского здравого смысла ему сложно идти в направлении полноценного урегулирования – издержки могут перевесить дивиденды. Но почему украинский вопрос должен быть «пробкой» для всего остального (особенно если урегулирование затягивается), в том числе для вопросов стратегической стабильности? Это явно противоречит здравому смыслу и той базовой установке, которую декларирует Трамп – «America First». Получается, что во всех вопросах Трамп делает то, что считает нужным для США, и только в отношениях с Россией он делает то, что ему позволяют европейцы и американское глубинное государство. Сможет ли Трамп и на российском направлении следовать здравому смыслу или будет вынужден смириться с этой явной аномалией в его «революции здравого смысла» – вопрос пока открытый.
Ключевые слова: Россия-США; Контроль над вооружениями; Украина
RUF
E16/SHAH – 25/11/07